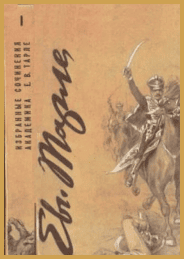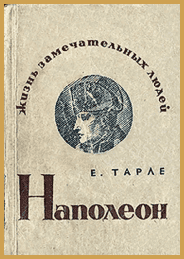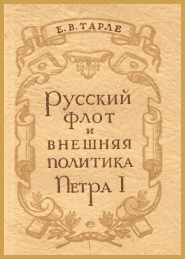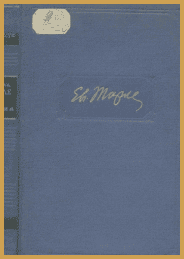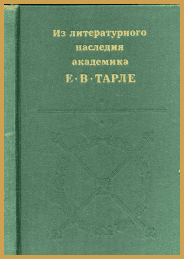Евгений Викторович Тарле

«Не прошло получаса, как я был окончательно пленён им и самим, и его разговором, и его прямо — таки сверхъестественной памятью. Когда Короленко, интересовавшийся пугачёвским восстанием, задал ему какой‑то вопрос, относящийся к тем временам, Тарле, отвечая ему, воспроизвёл наизусть и письма и указы Екатерины Второй, и отрывки из мемуаров Державина, и какие‑то ещё неизвестные архивные данные о Михельсоне, о Хлопуше, о яицких казаках…
А когда жена Короленко, по образованию историк, заговорила с Тарле о Наполеоне Третьем, он легко и свободно шагнул из одного столетия в другое, будто был современником обоих столетий и бурно участвовал в жизни обоих: без всякой натуги воспроизвёл одну из антинаполеоновских речей Жюля Фавра, потом продекламировал в подлиннике длиннейшее стихотворение Виктора Гюго, шельмующее того же злополучного императора Франции, потом привёл в дословном переводе большие отрывки из записок герцога де Персиньи, словно эти записки были у него перед глазами тут же, на чайном столе.
И с такой же лёгкостью стал воскрешать перед нами одного за другим тогдашних министров, депутатов, актёров, фешенебельных дам, генералов, и чувствовалось, что жить одновременно в разных эпохах, где теснятся тысячи всевозможных событий и лиц, доставляет ему неистощимую радость. Вообще у него не существует покойников; люди былых поколений, давно уже прошедшие свой жизненный путь, снова начинали кружиться у него перед глазами, интриговали, страдали, влюблялись, делали карьеру, суетились, воевали, шутили, завидовали — не призраки, не абстрактные представители тех или иных социальных пластов, а живые, живокровные люди…»